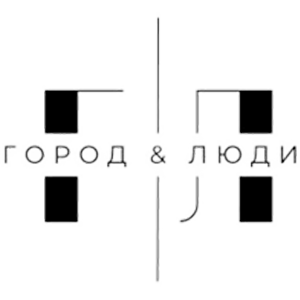Тарханов Андрей Семенович
Тарханов Андрей Семенович (13 октября 1936) – мансийский поэт и прозаик, член Союза писателей. Пишет и печатается на русском языке. Родился в д. Аманья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. Окончил Ханты-Мансийское педагогическое национальное училище в 1956 году, работал учителем. В 1961 году закончил Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена. Вернувшись в Ханты-Мансийск, работал собкором окружной газеты «Ленинская правда». После учебы на Высших курсах сценаристов и режиссеров при Союзе кинематографистов СССР был редактором Ханты-Мансийской студии телевидения.
Первые стихотворения А.С. Тарханова были опубликованы в конце 1950-х годов в альманахах «Молодой Ленинград», «На Севере дальнем», «Сибирские просторы», в газете «Ленинская правда». Поэтический сборник «Первая завязь» выпущен в Тюмени (1963). А.С. Тарханов – автор более десяти книг стихов и прозы, изданных в Тюмени, Свердловске, Москве. Последний сборник поэта «Плач неба» вышел в 1966 году.
А.С. Тарханов входит в редакционную коллегию альманаха «Эринтур». Живет и работает в Ханты-Мансийске. Поэт родился в 1936 году в деревне Аманья Кондинского района Тюменской области. Теперь ее, как и многих других поселений кондинских манси, нет. Везде хозяйствует крапива, да кое-где еще остались заброшенные избы, но уже без окон, изрядно подгнившие, а местами – даже вросшие в землю.
Деревня Тарханова стояла на берегу речки (ее тоже звали Аманья). А напротив нее был кедрач. Мальчишки часто там находили какие-то стрелы. Но иногда им в руки вдруг попадали страшные черепа. Бабушка Тарханова, когда узнавала, что детвора вновь за речку бегала, очень ругалась. Она говорила, что кедрач этот священный, что там в свое время крещенные вели войну с язычниками и поэтому просто так тревожить это место нельзя. Но внук тогда ее не понимал.
К истории Аманьи Тарханов вернулся лишь в середине 60-х годов. К тому времени он уже успел окончить Ханты-Мансийское педучилище (1956), Ленинградский пединститут имени А.И. Герцена (1961) и поступить на Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Союзе кинематографистов СССР. Своей дипломной работой на курсах Тарханов избрал будни кондинских охотников и рыбаков. Однако свидание с малой родиной оказалось печальным. Молодой кинематографист в краю своего детства не нашел ни одной живой деревни. О языческом прошлом Конды напоминали разве только брошенные амбары да покосившиеся от времени по берегам таежных рек столбы с выдолбленными идолами.
Под впечатлением увиденного Тарханов поставил крест на прежней заявке и напрочь отказался от экзотических съемок. Он взялся за фильм об истории родного народа.
Старики рассказали ему, что еще в прошлом веке коренное население Конды испытало сильнейшее влияние русских переселенцев. Русское крестьянство продвинуло в Сибирь многие традиции землепашества и животноводства. Но главное – оно принесло и довольно-таки быстро утвердило в таежном крае свою православную веру.
Естественно, этот процесс, в целом весьма позитивный, не был таким уж гладким. Он при множестве плюсов имел, к сожалению, и свои издержки.
Для кондинских манси самой ощутимой потерей стало фактическое исчезновение к началу двадцатого века родного языка.
Так у Тарханова рождался очень грустный фильм «Семь лиственниц». Однако когда лента уже была готова к показу, она вызвала недовольство партийного начальства, и картина попала под запрет.
Непросто складывалась судьба Тарханова и в литературе. Первые его поэтические опыты относятся к 1956 году. Он, тогда выпускник Ханты-Мансийского педучилища, получил направление в Юмасинскую семилетнюю школу. Первое время ему в Юмасино было очень непривычно. Все друзья по училищу – далеко. Настроение – никудышное. И единственное спасение Тарханов увидел в стихах.
Потом эти его литературные опыты нашли поддержку в Ленинграде. О них сочувственно отозвался крупнейший северовед А. Баландин. Тарханова даже пригласили в марте 1961 года на первую Всероссийскую конференцию писателей народов Севера в Комарово. А спустя два года он держал в руках первую свою книгу «Первая завязь». Однако следующего сборника ему пришлось дожидаться уже девять лет. Но не потому, что в это время ему не писалось. Нет, причина была другая – недоброжелательство именитого земляка, а именно Ювана Шесталова.
Увы, в какой-то момент Шесталов решил, что из манси в литературе должен быть только он один, и никто больше. Под его влиянием издатели, начиная со второй половины 60-х годов, перестали замечать Матру Вахрушеву, Петра Шешкина, Николая Садомина и других талантливых мансийских авторов. Так в Югорском крае утверждался культ одного автора – Ювана Шесталова.
Аргументы при этом использовались самые разные. Но главный упрек заключался в том, что Тарханов не владеет мансийским языком. Будто это его вина.
Однако читающая Россия не знала других фактов. Многие полагали, что манси, как утверждали все справочники, это один народ, насчитывавший к 1970 году чуть больше семи тысяч человек. Но это не совсем так. Некоторые ученые считают, что под это название – манси – попали сразу четыре разные этнические группы, которые имеют большие различия в языке. Есть специалисты, доказывающие, что кондинские и сосьвинские манси представляют собой разные народы, хотя корни у них общие. Но некоторые североведы утверждают, что кондинцы и сосьвинцы в прошлом могли слиться и образовать единый этнос, для этого существовало достаточно много предпосылок, но история распорядилась иначе.
Тарханов и Шесталов – носители совершенно разных культур. Шесталов по происхождению из сосьвинских манси, а родословная Тарханова во многом связана с историей Кондинской тайги. Поэтому, казалось бы, что им делить. Но нет же – амбиции взяли верх.
Лишь в 1980 году Тарханов наконец был принят в Союз писателей. Позже, в 1987 году, он окончил в Москве Высшие литературные курсы.
Я при этом вовсе не хочу идеализировать Тарханова. Увы, он, как и Шесталов, тоже не избежал многих соблазнов и конъюнктуры.
Было время, когда поэт нещадно «эксплуатировал» этнографические сюжеты. Достаточно вспомнить его стихи «Идол», «Песня каюра», «Маска язычника» или поэму «Пепел священного бора». Однако никаких открытий эти произведения не содержали. С точки зрения этнографов, Тарханов занимался верхоглядством. Критиков раздражало обилие банальностей. И только, похоже, первые издатели поэта наслаждались дешевой экзотикой.
Долго не мог Тарханов определиться и в отношении нефтяников. Судя по некоторым его стихотворениям 60-70-х годов, он какое-то время пытался лавировать: то безудержно славил эпоху нефтяного бума и едко высмеивал путавшихся под ногами носителей языческих традиций. То вдруг резко отмежевывался от сторонников прогресса и страстно призывал человечество вернуться в прошлое. Но, возможно, Тарханов просто искал себя. Жаль, что прозрение наступило слишком поздно.
К слову сказать, Тарханов и сегодня продолжает довольно-таки часто противоречить самому себе. Я сужу об этом хотя бы по поэме «На последнем берегу». Полностью поэт напечатал ее в1996 году в своем сборнике «Плач неба». Но еще раньше, в 1993 году, он в книге «Пасхальный день» опубликовал одну из ключевых глав этой поэмы – «Умершие деревни».
Если честно, в свое время именно эта глава произвела на меня сильное впечатление. Кажется, впервые Тарханов попытался осознать, что произошло с его родным краем. Ведь на памяти всего одного поколения не просто исчезло с десяток маленьких деревушек, каждая из которых имела многовековые традиции и с каждой из которых у поэта связано столько дорогих его сердцу воспоминаний. С разрушением этих деревушек сразу канул в вечность целый народ вместе со своей древнейшей историей и неповторимой культурой. Осталась лишь сказка про вожака Ивыра, когда-то приведшего на берега Конды первых людей и из рук которого поэт собирается получить в наследство когда-то им отвергнутый бубен – «как осколок мансийских дорог».
С этнографической точки зрения, может, не совсем точен финал этой главы. Умирающий Ивыр отправляет героя на Сосьву-реку. На Конде больше манси не осталось, а «там повстречаешь ты наших людей». Но Ивыр не прав. На Сосьве – другие манси. У них другой язык, другая история, другие традиции.
Впрочем, Тарханов потом и сам догадался об этой неточности и в окончательный вариант поэмы внес несколько изменений. Но я считаю, что эти изменения еще больше запутали читателя. В новой версии Ивыр уже не отправляет героя поэмы искать уцелевших своих соплеменников на Сосьву. Видимо, он понял, что на Сосьве живет совсем иной народ. Но теперь Ивыр делает другое признание, что до него бубен принадлежал шаману Катуне.
На эту оговорку можно было бы не обращать внимания, тем более, что больше Катуня в поэме не упоминается. Однако меня несколько смущает, как чересчур вольно Тарханов решил в произведении, обращенном к исторической памяти народа, использовать имена, имеющие для кондинских и сосьвинских манси знаковое, если так можно выразиться, или даже культовое значение.
Ивыр, согласно мансийскому фольклору, вожак и основатель одного из главных поселений кондинских манси – деревни Евра. Катуня же – переиначенное имя столетнего шамана Кутони, который жил в верховьях Горностаевой реки на Сосьве и который, по сути, открыл на рубеже 10-20-х годов нашего столетия М. Плотникову вогульский эпос «Янгал-маа».
Еще можно понять автора, когда он, наделяя персонажей культовыми именами, хочет тем самым придать своему произведению какую-то многозначность. Но играть знаковыми понятиями просто для красного словца – это, по-моему, признак плохого вкуса.
В новый расширенный вариант поэмы Тарханов включил главу «Обреченные». Он решил проследить, как менялась жизнь Конды в советскую эпоху – от Ленина до Брежнева. Но я думаю, что этот «краткий курс советской истории» только «убил поэму». После «Обреченных» бессмысленно читать «Умершие деревни»: и так уже все ясно, к чему подробности. Ведь чем брали за душу»Умершие деревни»? Там была какая-то недоговоренность, была какая-то тайна, которую хотелось постичь. Были чувства, переживания. Были поэтические образы. «Обреченные» все это убили. Исчезли чувства, эмоции. Осталась политическая скороговорка. Лишней оказалась в поэме и заключительная глава «Сказание о Шаиме», представляющая перелицовку старого стихотворения «Шаим».
А вообще я бы посоветовал Тарханову пореже обращаться к этнографическим мотивам. Экзотика – не его удел.
Сила Тарханова в другом – в лирике. Но мне кажется, поэт не всегда это осознает. Иначе еще в перестройку поэт не позволил бы втянуть себя в сомнительные политические игры. Возможно, дали знать о себе старые обиды. Наверное, возникло страстное желание отомстить былым недругам. Но месть не самое лучшее качество для художника. Во всяком случае, лично я очень жалею, что Тарханов, имеющий талант прирождённого лирика, вдруг с азартом охотника включился во всевозможные политические баталии. Для меня это очевидно: политик из него совершенно никудышный. А вот поэт он, безусловно, неординарный. У него есть несколько стихотворений, которые могут украсить любую антологию поэтической России. Но разве это мало?