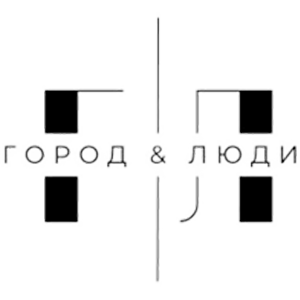Конькова Анна Митрофановна
Начну с того, что сразу повинуюсь перед Анной Митрофановной Коньковой. В свое время, когда мой товарищ Еремей Айпин хотел рекомендовать Конькову в Союз писателей, я очень долго отговаривал его от этого шага. У Коньковой вышло всего две книги: небольшой сборник мансийских сказок «Сказки бабушки Аннэ» и написанный в соавторстве с Геннадием Сазоновым роман «И лун медлительных поток...». Фольклорная книга при некоторых ее достоинствах событием на Севере не стала, а написать в соавторстве с опытным мастером роман, как я считал, дело нехитрое. Перспектив творческого развития Коньковой я не видел. К тому же сама она давно уже была на пенсии. Не получается ли, упрекал я Айпина, что ты стремишься любым способом увеличить в округе число национальных писателей.
Как же я ошибался! Хотя бы с романом. Я полагал, что Конькова помогла Сазонову только с материалами, а сам роман она, конечно же, не писала. Но это далеко не так. Впрочем, обо всем по порядку.
Да, к литературе Конькова обратилась довольно-таки поздно. Когда она вышла на пенсию, то сразу заскучала без работы. И вдруг в конце 70-х годов ее пригласили на окружное радио вести передачи на манси языке. Но никакого оригинального материала у нее под руками не оказалось. А переводить только газетные статьи Коньковой было неинтересно. Вот и вспомнила она сказки.
Раньше у манси не было принято записывать предания. Одну и ту же легенду северяне рассказывали по-разному, кто как мог. Конькова не стала нарушать традицию, придумала свои варианты известных сказаний. Бывало, возьмется она за блины, досочку положит на кадку, а на нее – листок бумаги. И пока блин пекся, она на ходу записывала начало услышанной в детстве бабушкиной истории. Затем блин переворачивала – и сочиняла новый сказочный сюжет.
Видимо, сработали гены. Конькова родилась в мансийской деревне Евра, где в каждой избе был свой сказочник. Как говорила ее бабушка Околь, без сказок расти – что без соли жить. Но сначала бабушка любила потерзать внучку загадками.
«В летней зелени густой покажусь я золотой. Солнце платье мне дарит, огоньком оно горит. А холодною зимою платье шьется мне луною». Кто это мог бы быть? Ну, конечно, белка. Это у нее, когда она созреет, шкурка приобретает цвет луны.
Другая загадка: «Без меня и моего хвоста совсем никуда: ни в жару, ни в мороз не покажешь свой нос». Это иголка и нитка.
И еще одна загадка: «У родителей и у деток вся одежда из монеток». Это чешуя на рыбах.
Если внучка отгадала три загадки, бабушка говорила: так и быть, расскажу три сказки. Потом наступала очередь внучки. Если бабушка отгадывала пять ее загадок, то внучка вспоминала пять сказок.
Зимой сказки помогали пережить холод. Бабушка Околь звала внучку к себе в избу и допоздна играла с ней. Летом днем было уже не до забав. Все сказки откладывались на вечер. Внучка приносила во двор собранную с утра лиственничную губу, бабушка аккуратно ее разжигала. и наступала благодать. Дымокур хорошо отгонял комаров, глаза не ел да еще приятным ароматом баловал. Не случайно к дымокуру бабушки Околь любила сходиться вся деревня.
За вечерними разговорами взрослых Коньковой впервые открылась удивительная история ее народа. Она узнала, что прежде, вплоть до начала семнадцатого века, большинство манси, которых тогда звали вогулами, жили в ста тридцати километрах от Евры в Пелыме. Ими управлял князь. Но все изменилось после изобретения дробовиков. Когда, как гласят легенды, в 1950 году на берегах Конды появились первые пришельцы с ружьями, местные рыбаки от ужаса разбежались. Кстати, с тех пор Евра до самой Советской власти никаких шаманов не знала. А вот вера в Кондинском крае чуть ли не до середины уже нашего столетия сохранялась языческая. Сколько ни приезжали из Тобольска в Конду православные миссионеры и ни сжигали вогульских идолов, но обычаи манси искоренить им не удалось. Священники уезжали, и манси вновь доставали из укрытий своих идолов. Конькова сама, когда повзрослела, довольно-таки часто находила в густом лесу покровителей мансийского народа. Конечно, со временем какие-то традиции манси переняли от миссионеров, в частности они стали справлять русские праздники. Но чтобы манси вслух молились Христу, такого старожилы не помнят.
После сказок Конькова собиралась взяться за книгу о Евре. Это была прекраснейшая мансийская деревня. Раньше ее окружал со всех сторон смешанный лес. Возле Евры даже липы росли. Здешний народ занимался в основном рыбалкой да еще лен выращивал. А исчезла Евра уже после Великой Отечественной войны. Один охотник, гоняясь за барсуком, зажег палку и стал ею шуровать в норе. Горящая палка, видать заискрилась где не нужно. Возник маленький пожар, который буквально в один момент перекинулся из тайги на деревню. Так сгорела Евра, уцелел только дом Картиных, в котором когда-то прошло детство будущей писательницы.
Конькова (до замужества Картина) родилась в 1916 году. Мать была из потомственных мансийских рыбачек. Далеко не всем в Евре нравился ее крутой характер. Как потом рассказывала о ней дочь, русские на такой женщине жениться боялись, за манси она сама выходить не хотела, хотя от сватов отбоя не было. Однако ребенком она почти не занималась, все силы отнимала путина, а когда рыба не шла, подходило время за лен браться, мочить, расстилать, сушить, мять, чесать и так далее. Девочку воспитывала в основном бабушка. Кто отец? Этого никто в Еврее не знал. Как теперь смеется Конькова, я, мол, найденная.
В четыре годика у девочки появился отчим из соседней русской деревни Носово. Его звали Казанцев. В семнадцать лет он попал на германскую войну, где очень скоро был ранен и захвачен в плен. Потом последовали каторжские работы на немецких шахтах. Затем его угнали в Австрию, а оттуда перевезли в Голландию. В плену Казанцев сумел каким-то невероятным образом жениться, у него появился сын. Но тут грянула революция. Все пленные получили разрешение вернуться домой.
Новые испытания на долю Картиных выпали в 1930 году. Председатель сельсовета Репин объявил, что скоро в Евре начнется раскулачивание и что Картины первые на очереди. Не долго думая, мать будущей писательницы написала заявление в колхоз «Молодой активист» и отдала в общий котел числившихся за ней двух коров и двух коней (Казанцев, по бумагам сельсовета, вел отдельное хозяйство, но и ему долго быть единоличником не дали, через три года заставили вступить в колхоз).
Другие в колхоз идти не хотели, и все добро бросились прятать. Картины, к примеру, дружили с Кузнецовыми из Пелыма. Как вспоминает писательница, у соседей был изумительный иркутский конь-тяжеловоз.Так вот однажды, пока никто не видел, хозяин нагрузил его под самую завязку, себя усадил, жену, сына и решил скрыться. Лет пять никто ничего о Кузнецовых не знал. И лишь в 35-м году младшая Картина случайно встретила в Тобольске жену Кузнецова Павлу. Она и сказала, что Михаил Павлович и их сын Гошка умерли.
Хоть Картины ссылки избежали, но потесниться им пришлось. Уж очень они большой дом занимали. В 30-м году к Картиным подселили аж пять семей, высланных откуда-то с юга. Евринцы помогали им как могли. Они приносили рыбу. Но приезжие оказались не рыбоедами. Правда, осенью народ в охотку брал бруснику и не понимал, что брусника только возбуждает аппетит. Некоторые семьи уже доходить стали. И тут смелость проявил Анин брат – Сеня, он уже был большой и, кстати, комсомольцем числился, взял и отвез спецпереселенцев через болото в Пелым, где жило много русских и которые могли им оказать более действенную помощь.
Ну а сама Анна подальше от классовой борьбы вскоре уехала учиться в Остяко-Вогульск. В 1935 году комсомол поручил ей поискать в Нахрачинском районе по глухим таежным деревушкам талантливую национальную молодежь. Картина смогла уговорить поехать с ней в педагогическое училище только одиннадцать мансийских ребят. В каком-то колхозе она купила за тридцать рублей лодку, но для такого количества людей эта посудина оказалась мала. До Остяко-Вогульска смельчаки добрались, когда на реке у берега уже был пятиметровый лед. За этот поход Картину с ее спутниками прозвали «челюскинцами».
Но вот самой Картиной долго проучиться в Остяко-Вогульске не дали. В 1937 году почти весь четвертый курс местного педучилища отправился на ликвидацию неграмотности в северные районы округа. Картина сначала попала в русскую школу, но уже через год ее из Березова перевели в небольшое мансийское село Неремово. На новом месте новую учительницу встретили весьма неважно. Как ей показалось, ученики не приняли ее только потому, что она чересчур хорошо одевалась. Дети решили, что учительница русская, мансийского языка не понимает, и стали меж собой по-мансийски над ней посмеиваться. Но не тут–то было. Однажды учительница не выдержала очередных шуток и резко прервала разговоры своих учеников. На чисто мансийском языке она поинтересовалась у них, где это ребята увидели русскую учительницу.
Когда школа в Неремово окрепла, Катрину вместе с мужем, Хантом по национальности, отправили создавать кочевую школу на Пыжьянском озере для кочевых лесных ненцев. Но тут возникла проблема языка. Выход был найден. На семейном совете молодые учителя решили, что надо как можно быстрее добраться до первого стойбища, уговорить родителей отпустить с ними двух-трех подростков и потом, не прекращая путешествия по болотам и продолжая для своей школы собирать учеников, учиться у этих подростков ненецкому языку. Так оно и получилось. Спасибо ненецким охотникам Нечу. После долгих уговоров согласились отпустить с незнакомой семьей дочку Нырсы и сына Нечупсу, которые дорогой помогали своим учителям постигать особенности языка лесных ненцев.
Анна Митрофановна рассчитывала, что не уедет из Пыжьяна, пока не доведет учеников приготовительного отделения до пятого класса. Но скоро началась война. Мужа взяли на фронт, а Картина успела нажить себе язву желудка. Поэтому в 1944 году она вынуждена была переехать с детьми в Ханты-Мансийск. Однако в окружном центре работы по специальности для нее не нашлось. В Ханты-Мансийске еще оставались эвакуированные учителя, и заведующий окроно предложил ей только место воспитательницы в детском саду.
А Пыжьянская школа закрылась году в 46-м. Какие-то умники решили, что пришло время перевести кочевников на оседлый образ жизни, и чуть ли не всех лесных ненцев собрали в один большой поселок. Но вот работой всех власть на новом месте обеспечить не смогла. Люди, образно говоря, остались без воздуха, рыбы и оленя. Власть поломала все условные рефлексы. Народ стал болеть. В Ханты-Мансийске тогда была огромная туберкулезная больница, и Анна Митрофановна часто ходила туда к бывшим ученикам. Сколько ребят она тогда похоронила…
Вот сколько сюжетов для романов.
Но если вернуться к творческим проблемам, то переломным для Коньковой в этом плане оказался 1975 год. В Ханты-Мансийск вдруг пожаловал известный тюменский прозаик Геннадий Кузьмич Сазонов. Они тогда договорились, что совместно напишут повесть «Евра – любовь моя». Конькова передала Сазонову все свои записи – шесть тетрадей. Через какое-то время Сазонов прислал ей готовую рукопись, под которой стояла только его подпись. Лишь на последней страничке была сделана приписка, что историю Евры писателю рассказала такая-то мансийка.
Но быть чьим-то информатором Конькова не согласилась. После долгих споров Сазонов выдвинул идею романа, который впоследствии получил название «И лун медлительных поток…» Он потом из Тюмени присылал Коньковой по 60 – 70 вопросов. Позже выяснилось, что обстоятельные ответы, обилие дополнительных материалов, авторские песни, стихи, сказки – все это не в счет. Сазонов настаивал, что книга должна выйти под одной его фамилией. На соавторство он пошел лишь после публичного скандала.
Пока решалась судьба романа, в гости к Коньковой прилетел московский поэт Анатолий Преловский. Ему очень понравилась рассказанная мансийской сказительницей легенда про вожака Ивыра, который привел в Евру первых людей, и он загорелся желанием перевести ее языком поэзии.
В последние годы Конькова предпочитает работать индивидуально. Свои книги она пишет на русском языке. В ее ближайших планах – подготовка сразу двух романов.